На юридическом факультете МГУ состоялся круглый стол на тему личных фондов.
Вот его запись:
Как отмечали участники, в 2024 году наблюдался взрывной рост регистрации личных фондов в РФ. (По моему поиску в ЕГРЮЛ сейчас их уже около 190 штук.)
Основные причины роста интереса к личным фондам:
Прекращение доступа к иностранным инструментам (трастам и т. п.).
Благоприятные изменения в налогообложении личных фондов в РФ
Основные цели использования личных фондов:
Конфиденциальность контроля бизнеса (в том числе подсанкционными лицами)
Защита активов от кредиторов
Передача бизнеса наследникам, не передавая им управления
Благодарю Дмитрия Копылова за любезное приглашение принять участие в круглом столе. Далее приводится конспект моего выступления.
Я попытаюсь сравнить российский «личный фонд» с англо-американским трастом.
Если коротко, в обоих случаях это инструмент, позволяющий одним людям управлять активами в пользу других людей. Учредитель траста или фонда отдаёт свои активы под контроль некоего управляющего или управляющих, которые далее действуют в интересах назначенных учредителем бенефициаров. Сами бенефициары, по общему правилу, никакой роли в управлении активами не играют.
Однако между трастом и фондом есть и существенная разница – прежде всего в том, что траст, в отличие от фонда, не образует отдельного юридического лица. Активы траста оформляются на управляющего (доверительного собственника), а активы фонда – это активы самого фонда как отдельной организации.
Ввиду концептуально сходства между трастом и личным фондом, сходны и решаемые ими практические задачи: передача активов в профессиональное управление, обеспечение конфиденциальности владения активами, защита активов от кредиторов, получение налоговых выгод, обеспечение передачи семейных активов из поколения в поколение и др. Все эти задачи в принципе могут решаться любым из двух этих инструментов – хотя далеко не всегда и с множестовом оговорок.
История
Немного истории.
Личные фонды появились в российском ГК совсем недавно, в 2021 году (соответствующие положения применяются с 2022 года). Наследственный фонд, который сейчас мыслится как разновидность личного фонда, появился несколько раньше, в 2018 году. До этого существовали лишь общественно-полезные фонды (благотворительные и т. п.), которые тогда назывались просто «фондами». Все они являются разновидностями некоммерческих организаций. (Инвестиционный фонд – это совсем другое.)
Этот инструмент довольно типичен для континентально-европейских юрисдикций. Точнее, в некоторых странах, таких как Франция, допускаются лишь общественно-полезные фонды (public foundation), а в некоторых других, таких как Германия, Австрия и Нидерланды, допускаются также и личные или частные фонды (private foundation), где управление активами происходит в пользу частных лиц – бенефициаров или выгодоприобретателей фонда.
Главное отличие частного фонда от коммерческого общества (компании) состоит в том, что бенефициары фонда, в отличие от участников общества, вообще говоря, не получают никаких прав на управление активами фонда. Соответственно, бенефициар (не являющийся учредителем) не может, например, самостоятельно уволить проворовавшегося управляющего фондом, а должен будет обратиться со своими претензиями в суд.
Английский траст (и трасты других юрисдикций этой правовой семьи) – это не юридическое лицо, а особое правоотношение. Трастовое право Англии было создано в основном английскими судами в их решениях, начиная примерно с 14 века, и лишь в последние сто лет было частично кодифицировано.
Трасты основаны на специфически английской концепции противопоставления общего права (common law) и права справедливости (equity): имущество может находиться в собственности одного лица (доверительного собственника) по общему праву, но другого лица (бенефициара) – по праву справедливости. Но экономическая суть их примерно та же, что и у фондов – некая имущественная масса управляется в пользу частных лиц – бенефициаров в частном трасте (либо для благотворительных и т. п. целей).
Одно из важных отличий траста от фонда в том, что создание траста может иметь совершенно неформальный характер. Не обязательно писать сложные документы траста, не нужно ничего регистрировать, траст вообще может быть создан устным волеизъявлением. Хотя, конечно, в серьёзных случаях обычно пишется подробное трастовое соглашение.
Проблемы
Возможно, главное отличие российского личного фонда от английского траста как раз в том, что трасту уже 600 лет, а личному фонду – всего три.
Это означает, что английские суды уже несколько столетий оттачивают свои позиции по поводу трастовых правоотношений и, можно смело предположить, разрешили основные встречающиеся в этих отношениях проблемы. Российское законодательство о личных фондах – новоиспечённое, причём, на мой взгляд, весьма сырое. Учитывая длительный срок существования типичного фонда, проблемы, заложенные законодателями сегодня, могут всплыть лишь десятилетия спустя.
Ключевых проблем там две.
Во-первых, защита бенефициаров от недобросовестных или неумелых управляющих. Как известно, в российском корпоративном праве весьма остро стоит проблема защиты миноритариев от недобросовестных директоров компаний, нарушающих их интересы. В фондах эта проблема встанет гораздо острее, поскольку не только миноритарные, но и мажоритарные бенефициары не имеют возможности уволить негодного управляющего, а должны обращаться за этим в суд. Да и разберётся ли суд во всех деталях деятельности хитроумного управляющего?
Во-вторых, защита кредиторов учредителей и бенефициаров фонда от недобросовестного сокрытия в фонде активов должников. Фонд – это самостоятельное юридическое лицо, и на его имущество, вообще говоря, не может быть обращено взыскание по иску к его учредителю или бенефициару. Не приведёт ли это к тому, что недобросовестный чиновник или бизнесмен будет, например, жить во дворце, оформленном на его личный фонд, тогда как его кредиторы не смогут с него ничего взыскать, поскольку собственных активов у него нет?
Собственно, те же проблемы стоят и в английском трастовом праве, и именно их решением и занимались суды в течение 600 лет. (Спойлер: при определённых судебными прецедентами условиях негодного управляющего можно привлечь к ответственности за нарушение прав бенефициаров, а при определённых другими прецедентами условиях активы можно изъять из траста в пользу кредиторов учредителя либо бенефициара.)
По-видимому, именно сложность решения этих проблем и стала причиной того, что многие континетально-европейские юрисдикции решили вообще не вводить в своё законодательство концепции личного или частного фонда (ограничившись лишь общественно-полезными фондами). Удастся ли российским судам удовлетворительно разрешить эти проблемы в ближайшую сотню лет – вопрос открытый.
В целом в российском законодательстве о личных фондах, на мой взгляд, множество дефектов, не говоря уже о пробелах. Я его критиковал еще на стадии законопроекта (см. приложение о личных фондах в томе "Глоссы" по наследственному праву). Кое-что поправили при прохождении закона через думу, но большинство критических замечаний остаются в силе. Я не буду их здесь повторять.
Выводы
Российский личный фонд во многом похож на английский траст, за исключением того, что траст, в отличие от фонда, не является юридическим лицом. Однако российское законодательство на эту тему пока выглядит крайне несовершенным, а судебная практика вовсе отсутствует.
Ввиду этого, с практической точки зрения, я бы пока никому не посоветовал создавать российский личный фонд и помещать туда свои активы. Правовые инновации – дело хорошее, но вполне можно остаться и без активов. Я лично подождал бы ещё лет сто, пока всё устаканится – а пока всё же лучше оформлять имущество на своё собственное имя.
Ну или надо иметь какие-то очень специальные причины для создания фонда, а также очень сильно доверять тому, кого ставишь на управление этим фондом. Работоспособность соответствующих правовых механизмов пока ещё не доказана.
Так что если всерьёз отвечать на поставленный в заголовке вопрос, то я бы скорее выбрал первый вариант…

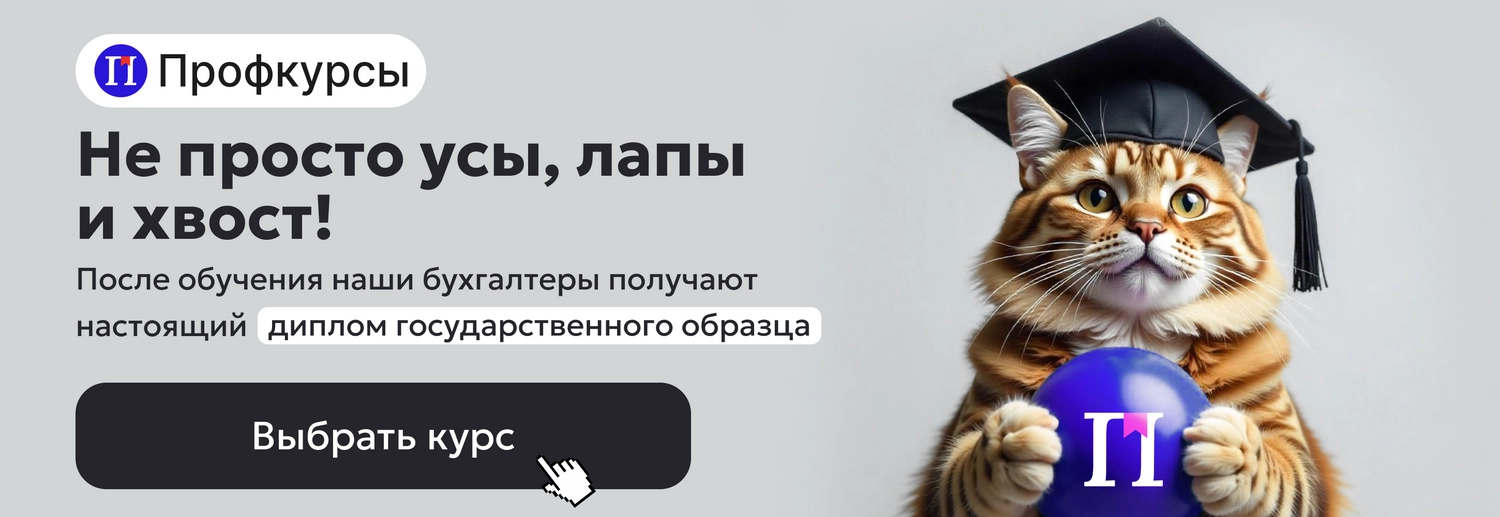









Начать дискуссию